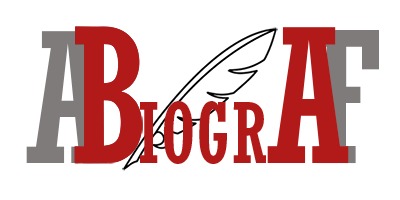Спасибо тебе, Сассь. И прощай...
Ушёл из жизни Александр Дормидонтов. Или просто Сассь, как его звали многочисленные друзья...
Представитель девятого поколения местного рода Дормидонтовых, происходящего из западной, островной Эстонии. Начиная с пятого поколения, Дормидонтовы живут в Таллинне.
Саша ходил в эстонский детский сад. Плюс дворовая практика – так в раннем детстве, в глубокое советское время, овладел эстонским языком.
А вот в школе учился русской – 6-й средней. Правда, пошел на год позже: семья никак не могла определиться, в какую школу отдавать ребенка – русскую или эстонскую. Его сверстники давно учились, а родственники всё думали... Решающим оказалось слово бабушки, учительницы русского языка в эстонской школе: «Русский ребенок должен учиться на родном языке».
После школы Александр хотел поступить в училище, чтобы выучиться на портного. А директор ему и говорит: «Слушай, у нас двести девочек, ты один мальчик, тебе же самому будет неловко. Иди прямо в цех, там и научишься».
Так он и поступил. Выучившись, несколько лет работал в ателье, параллельно выполняя частные заказы. Последних поступало всё больше, Александр ушел из ателье и стал работать только дома: больше возможностей для портняжного творчества, да и платили частные заказчики больше, чем бывший работодатель. Правда, трудовой стаж не шел – и это, наверное, в свое время отразилось на размере назначенной пенсии.
Но Сассь был выше того, чем озабочены все нормальные люди. Равнодушный к бытовым удобствам, к комфорту, его интересовали другие ценности жизни.
С юности ощущавший обостренное чувство свободы (в том числе по этой причине он в 16 лет ушел из родительского дома и жил самостоятельно), Александр с тех же юных лет принадлежал к сословию хиппи. Как и все хиппи, был битломаном – фанатом ансамбля «Битлс». Битломаны, говорил он, это, как и дети, цветы жизни. Каждая пластинка, альбом «Битлс» – как сказочная книга...
Как коренной житель Эстонии Александр был не против того, что независимость Эстонии в 1991 году была объявлена именно восстановленной, а не утвержденной вновь. Исходя из того принципиального положения, что, провозгласив независимость в 1918 году, Эстонская Республика в 1940 году де-юре не прекращала существования, а лишь утратила независимость в силу известных обстоятельств.
Соответственно, Александр был не против принципа реституции, на основании которого недвижимость, потерянная вследствие событий 1940 года, возвращалась бывшим собственникам или их потомкам.
Но он не мог согласиться с тем, что этот принцип не распространялся на Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата, которой в начале 1990-х годов было отказано в правопреемственности и, соответственно, в праве на владение церковным имуществом.
Александр воспринимал это как личную обиду. Многие его предки-родственники были священниками, лично строили и обустраивали местные православные храмы... Но невозможно представить, чтобы Сассь бил себя кулаком в грудь, размахивал руками и громко возмущался. Нет, он просто тихо говорил: «Это безобразие».
Приветствовал он и то, что восстановление независимости Эстонии происходило под знаком национального возрождения, возвращения к своим корням. И это не только об эстонцах. Вот и Александр в какой-то момент стал детально интересоваться историей своего рода. Сразу обнаружились переплетения с другими родственными линиями. И не родственными тоже. В общем, всё шире и шире... Так Александр Дормидонтов стал собирать свой знаменитый Русский архив – наверное, главное дело его жизни.
Периодически устраивал выставки. Вел передачи по радио о русских в Эстонии. Сначала на общественно-правовом радио на русском языке – с акцентов на историю. Потом на частном «Нымме радио» в беседах с местными русскими уже на эстонском языке доводил до аудитории этой радиостанции сегодняшние заботы и чаяния русских и русскоязычных жителей Эстонии.
Короче говоря, смысл деятельности Александра в эти годы сводился к тому, чтобы убедить эстонскую общественность: русский пласт в истории Эстонии – так уж сложилось исторически – весьма значителен. Его, этот пласт, надо знать и уважать.
Одновременно Александр убеждал свое русское окружение в необходимости познавать эстонскую историю, культуру, по возможности изучать язык. Кстати, однажды он выставку организовал, посвященную изучения русскими эстонского языка. Даже по такой, казалось бы, узкой теме набрались у него материалы для целой выставки. Посетители ее, в частности, узнали, что первый русско-эстонский словарь был издан в 1842 году. И где, главное? В Псковской губернии... Очередной символический факт, доказывающий исторически сложившиеся теснейшие связи Эстонии и России, эстонцев и русских. И, соответственно, доказывающий нелепость стараний тех, кто упорно делит общество по принципу «мы» и «они»...
Возвращаясь к Русскому архиву... Все знают о нем, но мало кто видел сам этот архив. Мне довелось. И более того – убедиться в его практической ценности.
Несколько лет назад чуть ли не целый день провел я на чердаке дома Александра в Нымме (его родной таллиннский район), где хранился этот самый архив. Среди чемоданов, ящиков, коробок, каких-то свертков. Сотни фотографий, брошюры, газеты, плакаты... Чего здесь только нет. Впрочем, всё разложено относительно аккуратно и системно.
И это только часть архива. Значительную часть своей коллекции Александр ранее передал в Таллиннский городской архив.
Моя цель была – поиск фотографий для книги «Если ты русский... Жизнь и дело Николая Соловья», над которой я тогда работал. Главный герой – видный деятель русской, украинской, белорусской национальной культуры в Эстонии Николай Васильевич Соловей (1920-2006).
В итоге много фотографий с того чердака вошло в нашу 550-страничную книгу. Все ценные, но о двух – чуть подробнее.
Незадолго до посещения этого дома я читал газетный репортаж о первом Всеэстонском слете русских хоров в Нарве (его участником в качестве хориста был 17-летний Николай Соловей), в частности, о шествии участников, стартовавшего в полдень 27 июня 1937 года. Там есть такие строки: «...Возглавляет шествие убеленный сединами с окладистой бородой высокий печерянин, одетый в широкую, вышитую русскую рубаху, широкие шаровары, заправленные в высокие сапоги. Рядом с ним две маленькие девочки, наряженные в сарафаны, с венками из полевых цветов на светлых головках...»
Каково же было мое ошеломление, когда восемьдесят с лишним лет спустя, в Таллинне, на чердаке ныммеского дома я нахожу фотографию этого колоритного мужчины и двух маленьких девочек рядом с ним! Правда, снимок сделан не во время шествия, а, видимо, уже после него, но нет никаких сомнений, что это они и есть: все детали совпадают.
На второй фотографии – совсем еще юный Коля Соловей, слушатель духовной семинарии в Печорах.
Уникальные же снимки! Где еще их можно было найти, как не у Александра Дормидонтова?
Спасибо тебе, Сассь, за всё. Покойся с миром.